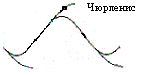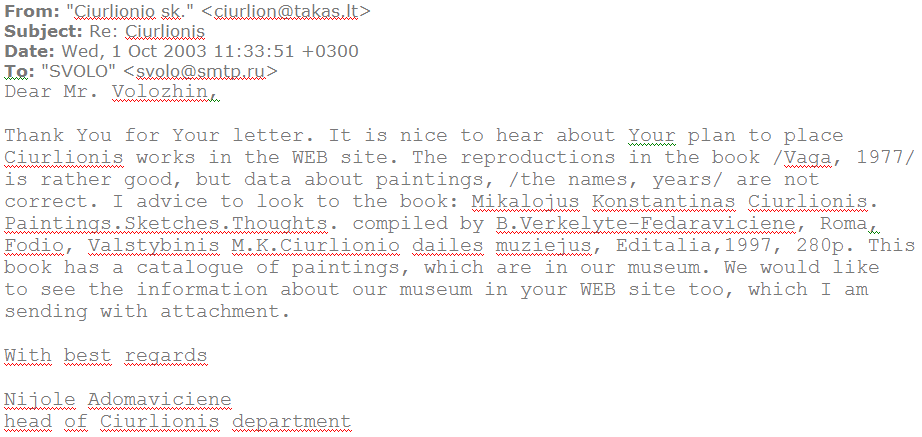Картины -сонаты Чюрлёниса
Картина Чюрлёниса: Соната моря.
Чюрлёнис — уникальное явление в мировом искусстве, его творчество до сих пор вызывает восхищение и споры.
С самого раннего детства Чюрлёнис освоил игру на органе и мог даже замещать своего отца во время воскресной службы. Его творческий путь начинался именно с музыки. После проявления ярких способностей, он был зачислен в школу князя Михаила Огинского — внука известного композитора, подарившего в 1794 году миру прекрасный Полонез «Прощание с Родиной».
В этой школе и оркестре князя и развивалась профессиональная деятельность Чюрлёниса, как музыканта. Чуть позже он закончил Варшавский музыкальный институт и отправился в Лейпциг в консерваторию. Но, лишившись после смерти князя его стипендии, Чюрлёнис был вынужден вернуться в Варшаву.
С этого момента в его жизнь навсегда входит живопись, к которой он и раньше имел большую тягу. Работы Чюрлёниса после завершения им художественного училища получили одобрение, и ему была предоставлена «свобода в реализации своих замыслов». Для композитора-живописца, так часто меняющего разлинованную нотную бумагу на гладкие листы для рисования, синтез музыки и живописи стал частью жизни, выражением его миропонимания.
И, скорее всего, к вагнеровской идее синтетического искусства литовский художник и композитор приблизился самостоятельно и чисто интуитивно. Таким образом, объединив две отдельные ветви искусства, Чюрлёнис поистине создал музыку на мольберте.
В 1907-1909 годах в созданных им сонатах, прелюдиях, фугах, живописец показал уникальную способность в живописи использовать визуальный аналог формы музыкального произведения.
Одной из наиболее живописных работ Чюрлёниса по праву считается СОНАТА МОРЯ. Это произведение состоит из трёх картин — Аллегро, Анданте, Финал. В музыке сонатами называют пьесы, в которых идёт противопоставление друг другу нескольких разнохарактерных тем.
Выбрав вечно влекущее к себе море объектом для работы, Чюрлёнис верил в возможность создания сонаты, но иными средствами — кистью и красками. Его живописный триптих, написанный по всем канонам музыкальных форм, наполнен звуками и понятен без слов.
Allegro — переводится как бурно, радостно, весело. Именно такими словами можно охарактеризовать первую картину сонаты с её бурлящими волнами и стремительным потоком. Одна за другой волны напористо наступают на берег, искрясь и переливаясь на солнце. Из морских пучин поднялись и рассыпались в кружеве янтарь и жемчуг. Очертания холмистого берега легко потерять — так незаметно он сливается с гребнями дальних волн. На переднем плане органично прорисовывается силуэт чайки. Здесь нет борьбы — только жизнь — яркая, бурная, подвижная.
Следующая картина сонаты — Анданте. Взятый за основу горизонтальный ритм, даёт ощущение тишины, покоя, умиротворённости. Только два ярких луча освещают горизонт. Следуя взглядом по светящимся дорожкам, видно, как на дне спящего моря притаился целый город, где нашли приют затонувшие корабли. Добрая заботливая рука поднимает один из них и бережно опускает на водную гладь, даруя ему новую жизнь.
Грозная и величественная волна поднимается ввысь в Финале. Море выплёскивается мощным потоком, накрывая волной крошечные кораблики и затопляя своей прозрачной зеленью города. Но, какой бы страшной не казалась эта волна, корабли обязательно спасутся — творчество Чюрлёниса удивительно миролюбиво и созидательно.
Годом раньше, в 1907, художником была написана и другая соната — СОНАТА СОЛНЦА — произведение из 4 картин — Аллегро, Анданте, Скерцо, Финал.
Отправной точкой живописи Чюрлёниса служит, как это удостоверяет изучение его картин, зримая реальность. От неё он устремляется к тому, что ей внеположено, что прозревает он за её пределами… Живописная обработка элементов зрительного созерцания по принципу, заимствованному из музыки… вот его метод…
Его творчество… есть опыт синтеза живописи, предполагающей изображение вещей в трёх измерениях. В противоположность этому музыка знает лишь одно пространство — время… Творчество Чурлёниса есть попытка, без сомнения, непреднамеренная, наивная и всё же проведённая с тою бессознательной закономерностью, которая составляет постоянство истинного дарования.
Источник
Чюрленис приветствие солнцу описание
Чюрленис. Художественный смысл произведений живописи и литературы
Третья интернет-часть книги
Разрешение Каунасского музея Чюрлёниса на публикацию в интернете репродукций произведений Чюрлёниса:
Жить лишь до смерти — слишком мало!
Того не допустил Творец,
Пути безгранны идеала,
Далеки цели и венец.
Смерть! смерть земли! твое где жало?
Жизнь! жизнь земли! твой где конец?
“Весть” (82), “Закат” (142), “Видение” (55),
“Приветствие солнцу” (76),
“Соната солнца” (178-181)
Может ли быть, что все зло, окружающее людей, является смутным, отдаленным намеком на будущий крах мира, крах не только цивилизации и человечества, но и всей Вселенной.

Вечер в горах. Закат солнца. В его последних золотистых лучах летит наискось к нам огромная птица.
Почему она так огромна — близко подлетела? Почему так черна — потому что смотрим на нее против света? Случайно ли художник выбрал такое направление взгляда и масштаб? Что за весть несет нам птица чюрленисовской “Вести”?
И вдруг. (Опять это “вдруг”, врывающееся в повседневность лишь при разглядывании, опять — нечто вроде бы несуществующее в обыденной суете, опять призыв остановиться и задуматься.) Вглядитесь, уже в который раз — вглядитесь: у птицы человекоподобное лицо. В ужасе широко раскрыты большие белые глаза, а разверзшийся в крике черный рот — своими очертаниями, вместе со стремительностью полета огромной птицы, вместе с нарочито выраженными несущимися лучами солнца — этот орущий мчащийся рот создает впечатление жуткого воя.
Нет, это не просто закат,- это предвестье заката солнца навечно. Потому так трагично столкновение черного и желтого в картине. Потому такое, а не другое, даже направление полета птицы и лучей. Ведь глаз, привыкший при письме и чтении скользить слева направо, воспринимает на картинах как затрудненное — движение наоборот. Так разве не чрезвычайное Что-то — одно лишь может так гнать птицу: через силу? А гонят ее лучи. Стремительные, как стрелы, пронзающие волны вечернего тумана, они словно подгоняют напряженно машущую крыльями вещунью. Это само солнце ее подгоняет, само солнце шлет весть: “Беда! Со мною беда. ”
Впрочем, для того, кто не чувствует трагизма в столкновении желтого с черным, натуги — в полете справа налево, кто отказывается увидеть у птицы — человекоподобное, да еще и с ужасным выражением, лицо — для того, возможно, солнце не только не закатывается в пред-сколько-то-последний раз на этом пейзаже, но и вообще не заходит, а восходит, и весть подает не трагическую, а иную, и, может, не солнце совсем ее посылает.
Убедить такого зрителя в неправоте очень просто: дать взглянуть на репродукцию или картину “Закат” из частного собрания дочери художника.

Там такое же белое солнце на горизонте и такие же птицы, как птица в “Вести”.
Такие — да не совсем.
Настроение “Заката” явно разнится с настроением “Вести”. Птицы как бы зависли, а не летят. Направление их полета — прямо на зрителя. (И в жизни такое движение меньше всего ощутимо.) Торжественно, вверх, симметрично и статически уравновешенно поднимаются солнечные лучи — покой. В неге и лени млеет матовая водная гладь. Это не изломы гор “Вести”. Спокойно лежат на небе вытянутые горизонтали тонких облаков. Здесь — не косые и рваные клочья тумана. Усталое солнце тихо садится за море. Лишь два тонких деревца еле-еле дрожат листочками, да солнечная дорожка на воде, мелко рассыпавшись тусклыми блестками, прощаются с солнцем на ночь. А так — все неподвижно. И никаких контрастов цвета: теплые, потухающие тона.
Редкостная для Чюрлениса картина. Исключение.
А вот наипоследних закатов или их предвестников у него множество. И самый, так сказать, лобовой — “Видение”.

В мрачной гладкой пустыне закатывается, да не то что закатывается — просто гаснет пепельный полудиск солнца. Последние теплые коричневые лучи отлетают от него. А на его фоне — зловещий силуэт Т-образного креста — древнего приспособления казни. И на нем распят змей, символ мудрости.
Что ж, если “жалок тот, кто все предвидит”, то дожить до потухания Солнца — сущая пытка для ума.
Эта картина — тоже почти исключение в некотором роде: не по настроению, как “Закат”, а по иллюстративности, что ли. Так и кажется, что художник сначала задумал идею, потом подобрал для нее символы, а дальше уж выполнял чисто рутинные действия рукой.
Получилось и прямолинейно, и нехудожественно.
Как, например, он долго и уныло штрихует пустыню. Грубая механическая работа: ни перспективного сгущения, ни укорачивания, ни истончения штрихов к горизонту. Крест и змей — обобщены, солнце и небо — вроде бы тоже, а земля вдруг — с жалкой попыткой проработки.
И все потому, что ложь на себя возвел и мысль выразил, захватившую не всю душу, а только ум. Чюрленис ведь не боялся думать о последних вопросах. Но, чтоб они сжимали ему сердце, нужно их связать с сегодняшним днем, укоренить будущее в настоящем. А для этого изображать нужно не факт последнего дня, а его предвестие, весть о нем, может, и не всякому зрителю заметную весть.
Есть такая картина (с несколько неподходящим названием), противопоставляющая жизнь, безразличную к далекому будущему, жизни, к нему неравнодушной,- “Приветствие солнцу”.

Дневное светило садится, скоро наступит ночь, и травы отвернулись от него. Оно им больше не нужно сегодня. Это днем они влюбленно поворачивали к нему цветки, тянулись стебельками. А сейчас — спать.
Но более тонко организованные существа — с активной, если позволительно так сказать, жизненной позицией — поклоняются уходящему солнцу.
Зачем? Чтоб оно встало завтра? Так утром надо призывать, и благодарить — тогда. Именно так и поступают солнцепоклонники. В картине — не так. Значит здесь произошло что-то особенное.
Кланяется солнцу людская толпа, склонили знамена, упали ниц передние ряды. Мало того, животные, как правило, лучше людей предчувствующие недоброе, тоже пришли сегодня поклониться уходящему солнцу.
Причем — странность: все это разношерстное сборище видится зрителю не как реальность, а как мираж. Да это и есть, наверно, изображение миража, увиденного когда-нибудь художником и истолкованного его фантазией в духе своего трагического мироощущения.
У каждого свои миражи. У него — такой. И вот художник нашел способ ненавязчиво “сказать”, символом чего — ему подумалось — может быть обычный солнечный закат и необычное к нему отношение.
А поручить выражение такого необычного — сонмищу людей, зверей, птиц, мотыльков — всяческой живности — могло прийти ему в голову по принципу противоположности (антитезы).

В одном из эскизов (394) к циклу “Сотворение мира” такое же сонмище (плюс рыбы, но еще без людей) оказалось в одном месте в первый день своего происхождения, под рукой Господней, “каждой твари по паре” сотворившей. И не правда ли: от мысли об одном из первых дней творения — лишь один мысленный шаг до предчувствия последнего дня.
Другие же наброски, к другим картинам, написанным и ненаписанным, так и муссируют этот последний день Солнца и Земли.

Вот (402) в земной шар из космоса целится стрелой из лука некто крылатый, нимбом которому служит Солнце.

Вот (408) кто-то другой, тоже крылатый, с какого-то высочайшего плато готовится поразить стрелой всю поднебесную, и солнце закатывается при этом за горный хребет. А лучи солнечные оказываются шипами, об которые колются чьи-то надмирные ступни.

А вот (413) человек, нарисованный от глаз и выше. Потуплен взор, космы волос спускаются на лоб. На фоне — три горы и заходящее солнце. Только крайние горы обернулись крыльями, а средняя — головой ворона, клювом долбящего человеческую голову. И непонятно: кровь ли струится по лбу или пряди волос.
В эскизах замысел более обнажен, такими им и полагается быть. В картинах иначе. Не бьют в глаза примененные художником средства, смутно действуют они на сознание зрителя, зритель должен совершить духовное усилие: подсказанное художником должно как бы само родиться в душе зрителя — только так художник проймет его своим заветным.
Подспудны и невнятны признаки отдаленного конца мира. Не каждому дано их увидеть — лишь самым чутким.
И “Соната солнца”, похоже, вся-вся проникнута таким же тайным и таким же тяжелым переживанием.
Что бы ни чудилось в последовательности из четырех картин этого цикла: молодость, зрелость, старость, смерть личности или человечества,- весна, лето, осень, зима, утро, день, вечер, ночь в природе или в духовном мире, в искусстве или религии,- какой бы сюжет на тему “Развитие” ни навевали нежные, затем контрастные, бледные и, наконец, мрачные краски “Аллегро”, “Анданте”, “Скерцо” и “Финала” — а все же не только расположение траурного “Финала” в конце серии влияет на восприятие предыдущих картин да и всего цикла в целом.

В первой части можно разглядеть уже знакомую вещунью, и не одну. можно узреть нед о бро и предупреждающе поднятый указательный палец “Дня”, и не один. А другие строения, вспомните, это ж фрагменты стенающего города из “Похоронной симфонии”.
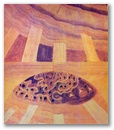
Во второй части — то же. На иной взгляд, тут происходит что-то сомнительное: в каких-то космических тучах тонут Солнце и Земля. А макушка земного шара, подумается порой, выглядит могильным холмиком — даже свеча (как принято делать у христиан в день поминовения усопших), зажженная свеча воткнута в землю. И так-то она незаметна, свеча, что и лучи-то ее кажутся причудливо преломившимися солнечными.
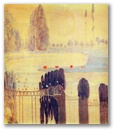
О третьей части можно сказать, между прочим, что изображено на ней неполное солнечное затмение, раз уж солнце вынесено в название цикла. Затмение и логически оправдывалось бы — новое закрывание солнца от земли. И это второе застилание опять незамечаемо нечуткими. Не очень-то потемнело в окрестности, и не смыкаются — как вечером — лепестки цветов. Как ни в чем не бывало ведут себя бабочки. Это, наверно, не однодневки: они летят, заметьте, все в одном направлении. В Литве, бывает, видят люди подобное явление — это миграция. От северной Африки до Скандинавии и обратно совершают перелеты столь хрупкие и, казалось бы, чувствительные существа. Летят они и вечерами — пока не стемнеет совсем. Что им неполное солнечное затмение! Жизнь идет по-прежнему.

И даже сам траур “Финала” незаметен для человечества: оно устало, достигнув величайшего могущества и власти, оно уснуло, покорив вершины познания. Дальнейшее развитие кончилось. в апогее. Наступило извечное и давно предрекаемое: абсолютный покой.
И как поразительно созвучны этой абстракции, кажется, все детали “Финала” “Сонаты солнца”! Звезды. Паутина и тишина абсолютной неподвижности. И всевключающая полнота — это присутствие всего сущего на фризе колокола. И всепроникающее единство разнообразия этого сущего — изображены-то на колоколе только ипостаси и вестники абсолютного покоя. сна. смерти. траура: страшная птица-вещунья, поднятый указательный палец, каменный кричащий рот, молящие руки и по разному затмеваемое солнце.
А в естественнонаучных понятиях такому финалу и подходу к нему соответствует постепенное потухание нашего солнца, источника жизни на земле,- потухание, о котором ни раньше, ни сейчас, ни в обозримом будущем люди практически не думали, не думают и не подумают и которого практически не замечают.
Есть авторы, которые пишут, что в “Финале” “Сонаты солнца” — не абсолютная безнадежность, что сам художник, вероятно, питал какие-то надежды относительно человечества, раз так беспощадно проводил через свое сердце мысль о конце концов. Надеялся выстоять в этом искусе и тем утвердиться в своей тайной вере, внушавшей сомнения.
“Все сущее — увековечить, безличное — вочеловечить”,- писал Александр Блок, современник Чюрлениса и такой же, как Чюрленис, могучий выразитель своей эпохи средствами символистского искусства. Верить: хоть смутно, последним тайником души, вопреки всему — верить в провидение было характерным для тех лет. Чюрленис к тому же был не чужд, в какой-то мере, религиозности, а христианство имеет двухтысячелетнюю традицию именовать Бога душой мира, изображать мир как круговорот божественной доброты и любви.
Чюрленису было, конечно, неведомо, что открытие радия, совершенное при его жизни, предваряло вполне материалистические (в пику мистическим) основания к идее о безмерном прогрессе человечества. Испытывая морализаторство христианской религии, он привлекал известные ему данные науки (астрономии) о “смерти” светил. А что нынешняя наука прогнозирует нам о судьбе и назначении человека в Метагалактике (в известной нам сейчас части Вселенной)?
Похоже, что мы можем не бояться потухания нашего светила. Мы живем в атомном веке: открыты и начали использоваться источники энергии, независимые от Солнца. Когда укротят мощь водородной бомбы — можно будет “сжигать” воду океанов, а это практически неисчерпаемый источник.
Послеатомная цивилизация займется сверхъемкими аккумуляторами. В идеале — это запасы антивещества (а оно даже в крошечных дозах соприкасаясь с веществом дает в миллионы раз больше энергии, чем атомная бомба). Ракеты, использующие тысячи тонн такого антивещества позволят освоить всю солнечную систему, сжигать в необозримом будущем целые планеты для утепления Земли. А главное, появятся совершенно новые возможности передавать информацию в космос и, может быть, найти внеземные цивилизации. Или, может, нас найдут по нашим сигналам.
Так что: если никакими временны`ми масштабами не ограничивается обмен информацией между разумными существами, то не рвется связь времен в Метагалактике?
“Тишина” (2), “Гимн” (78), “Рекс зеленый” (86)
Некоторые околонаучные, научно-популярные и научно-фантастические публикации на рубеже XIX и ХХ веков давали в чем-то такую же оптимистическую картину преемственности вселенского разума.
Хорошо зная все эти пассажи, Чюрленис не мог не “испытывать” и идею смерти самой Вселенной, а не только Солнца и земного человечества.
И как ему было изображать такой последний день?
Конечно же, он применил,- иначе и не может наше воображение,- знакомые образы подлунного и надлунного миров: только не потухание Солнца, а более неопределенные физические явления. Именно на такие мысли наводит картина Чюрлениса “Тишина”, едва ли не самая зловещая изо всех его творений.
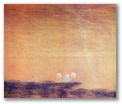
Хотя наивно-реалистически глядя здесь виден просто берег моря, но, вглядевшись, быстро приходишь к выводу, что тут происходит нечто вроде конца света. Происходит тихо, беззвучно, даже незаметно и как бы убаюкивая: это не страшно, не бойся, будет просто ничто — отсутствие ощущений.
Обратите внимание — на картине, собственно, ничего не нарисовано: несколько слабых штрихов пастелью — и все. Еще миг — и видеть, ощущать уже будет нечего. Все кончится. Именно об этом свидетельствует и сюжет. Всмотритесь и поверьте на минуту. В нескольких сантиметрах от кромки берега океана доживают три отцветших одуванчика. Сколько времени морю нужно было буквально не шевелиться, чтоб эти одуванчики выросли, зацвели и отцвели? Сколько времени не шевелился воздушный океан, если одуванчики на берегу моря нисколько не облетели? Да и есть ли они — эти океаны? Ведь здесь уже не они, а их исчезающий след, как этот исчезающий свет за горизонтом. Да, собственно, и горизонт исчезает, да и тьма. Все — исчезает. И почва, на которой выросли одуванчики — тоже. Едва ли не самое хрупкое творение природы, одуванчик, пережил всех. Нет больше сил в мире. Сейчас исчезнут остатки оставшегося.
Как хотите, но только не создать лучшего образа для. тепловой смерти Вселенной.
Почему тепловая смерть?- возразят.- Ведь из того, что тепло переходит только от менее — к более холодному, а обратно — не может, следует лишь, что всюду установится когда-нибудь одинаковая температура. И почему от этого пропадать океанам, материкам, горизонту, силам?
А потому что исчезнуть должны все виды движения, кроме теплового, а тепловое — это движение молекул и ничуть не б о льших частиц. То есть все должно распылиться, растаять. Даже движение Земли в космосе должно прекратить существование, ибо оно — механическое, а не тепловое. И, значит, исчезнуть должна сама Земля.
Была, например, когда-то гипотеза, что из-за приливов, вообще говоря, тормозящих движение небесных тел, Луна приблизится к Земле и разлетится на глыбы, со временем становящиеся все мельче, так что от нее останутся лишь кольца пыли, как вокруг Сатурна. Так почему не самоликвидироваться таким же образом и Земле? Или в духе какой-нибудь постпослеатомной цивилизации: почему бы людям не сжечь в сверхтермоядерных реакторах для собственного обогрева все планеты, почему бы всю солнечную систему не пустить на дым?
Чюрленису, конечно, не нужно было размышлять о чем-нибудь настолько же конкретном, чтобы нарисовать “Тишину”. Для ее создания ему даже и слышать-то не требовалось о существовании такого парадокса, как тепловая смерть Вселенной (хотя он вполне мог иметь о ней представление — в конце XIX века о ней много говорили и не только в среде ученых). Ему достаточно было лишь захотеть выразить радикальнейший обрыв преемственности — процесс исчезновения всего.
И нет никакой натяжки, если нынешний зритель “Тишины” (иной даже знает, что такое энтропия), глядя на это рассасывание структуры в непустоту, но и не во что-то определенное — если такой зритель сегодня посмотрит и подумает: здесь — тепловая смерть, еще немного — и останется лишь неупорядоченный хаос сталкивающихся атомов.
Давайте признаем, что испытывая свое и наше сердце художник в “Тишине” изобразил едва ли не само небытие. Но если мыслимо приписывать Чюрленису — в связи с созданием “Тишины” — какие-то, может, подсознательные переживания из-за будущего хаоса (а хаос, неорганизованность — это древнейшая противоположность космосу, некой организованности, и мысль о будущем всеобщем хаосе вполне могла посетить восприимчивую душу художника), то не мог ли он в своем пристрастном интересе к концу концов наткнуться и на другую логическую противоположность космосу: не могла ли ему прийти в голову идея предельной заорганизованности. По-современному это бы звучало так: сведение картины мира к отсутствию микроструктуры, к отсутствию атомов — к первоатому.
И в наше время действительно есть такая теория об одном интересном состоянии мира — теория “горячей Вселенной”.
Может, было бы ничего, если б так она всегда и расширялась и никогда не сжималась бы обратно. Теория как раз и обещала расширение, потому что малой представлялась наблюдаемая нынешняя средняя плотность вещества Метагалактики.
Но сравнительно недавно было обнаружено, что имеют массу, раньше числившиеся невесомыми, как свет, элементарные частицы под названием нейтрино (они ни с веществом, ни со светом почти не вступают во взаимодействие, нейтральны, потому их и назвали соответственно). А их много в межзвездном пространстве. Пересчитали среднюю плотность нынешней Вселенной — и она теперь уже превысила критическую. Значит, в следующие пятнадцать-двадцать миллиардов лет расширение Вселенной приостановится, перейдет в сжатие, и все опять сольется в первоатом величиной в долю сантиметра, выражаемую дробью, у которой в числителе — единица, а в знаменателе — единица с тринадцатью нолями.
Что из того, что есть и теория пульсирующей Вселенной: мол, первоатом опять взорвется, и все повторится сначала. Он нас-то ничего не перейдет в ту, новую Вселенную.
И Чюрленис, ни сном ни духом не ведая о чем-нибудь мало-мальски подобном,- “напророчил”: написал картину (“Гимн”), глядя на которую теперешний зритель, знающий о первоатоме, почти наверняка его вспомнит.

В “Гимне” изображена Вселенная. Она, во всяком случае, надзвездные выси,- в которых видимый нам Млечный путь (где миллионы солнц, подобных нашему) составляет лишь малый след,- эти громадные просторы все насквозь проникнуты единой идеей, действием, чувством, устремленностью — поклонением. Поклонение — Ему, невыразимому, как Его лицо, ослепляюще-испепеляющее, как молния. Все сковано в нижайших поклонах, в самоунижении, в самоуничтожении.
Да гимн ли это?! И если гимн, то не с тем ли ужасным акцентом, что сводит на нет индивидуальное во имя тоталитарного, во имя закостенелой иерархии и заорганизованности. Торжествует цельность в ущерб случаю, выбору и свободе.
Но опять — словно для скептиков — сохранились эскизы (358) к “Гимну”.

Они подтверждают и замысел, и настроение картины: и чрезмерную упорядоченность, и пессимистическую оценку ее. Однако предварительно надо принять к сведению два соображения.
Первое, что в музыке есть две стихии, зачастую переплетающиеся до неразрывности, но все же две: архитектура и настроение. Гимн всегда — и нечто волевое по настроению, и нечто утверждающее, конструктивное и стройное по архитектуре.
И вот теперь посмотрим на эскизы к “Гимну”. Не сухость ли, скудость и убогость выражает нарисованная там архитектура? А судя по барельефам, высеченным на этих унылых по форме великанских плитах, речь идет о чем-то грандиозном, вероятно, о самом мироздании. И что ж? Такое мироздание что-то сильно отдает простотой (не в положительном смысле).
Итак, по Чюрленису — мир приговорен? (Вопреки Фламмариону. )
А нынешняя наука. Порвется ль связь времен?
Но имея или нет какое-нибудь понятие обо всем этом или о каком-либо другом апокалипсисе и спасении в нем, человечество в целом почему-то практически ведет себя так, будто есть какая-то цель его существования. И, наверно, отталкиваясь именно от этого объективного и важного факта, думается, Чюрленис не смог принять как Абсолют — одно лишь зло.
Звезды, вернее, само межзвездное пространство смотрит на нас с картины “Рекс зеленый”. Звезды мерцают, как глаза, как драгоценные камни короны Главного Властителя Вселенной. Но почему эти межзвездные туманности, почему эти Млечные пути так напоминают реки слез? Плачет сама Вселенная? Значит, она добра? Значит, в природе даже без человека существует какой-то смысл, есть лучшее и худшее? И пусть полюса не бывают, не имеют смысла друг без друга, пусть зло неуничтожимо, но неистребимо и добро? Добро — абсолютно?!
Так далеки и отстраненны звезды, что всегда с ними ассоциируется какая-то созерцательность.

Но звезды в “Лесе” Чюрлениса такие необыкновенно крупные, нарочито приближенные. От этого они с картины прямо как бы светятся по-настоящему и вызывают двойственное чувство: тут не только созерцательность, но и живое соучастие, заинтересованность. То же — с деревьями. Они — символ пассивности: ведь они навечно привязаны к своему месту и могут лишь безучастно созерцать. Но на картине они тревожно взволнованы, ветер вздувает их кроны, деревья перешептываются, как живые, стонут, похрустывают, шумят, отзываются всей полнотой своей скупо отмеренной жизни.
От кого далеки и к кому стремятся душою лес и звезды? Чему или кому они бессильны помочь в своей вынужденной пассивности? Не земные ли дела, не жизнь ли людей взволновала их? Вглядитесь в макушки сосен — там же короны. Значит, это не просто лес и, наверно, не просто звезды. Так не память ли они, не память ли о прошлом? Может, здесь та волшебная ночь, когда просыпается в душе человека память предков, чтобы стеснить его заблудшую душу смутным сном или видением.
Ночь. Время остановки суеты. Время подумать о случившемся, не замечаемом в будничном беге дня. Ночь. Время неуспокоившихся призраков. Не они ли, возмущенные, хоть и бессильные, встают из небытия, чтобы попытаться напомнить живым о добром старом времени? Ведь деревья, преданные своему месту,- это еще и символ верности, а наше время — отнюдь не век традиций.
В века традиций время движется медленно, порядок вещей кажется прочно установленным и разумным. Например, средневековье: натуральное хозяйство. житейский оптимизм, мол, так было, так будет. наука объясняет мироздание как царство гармонии и законченного совершенства. стабильная культура и искусство. право и мораль вселяют ощущение осмысленности бытия.
Не утратили ль мы, вечно гонимые вихрем новаторских вожделений нашего времени, то мудрое спокойствие, ту медлительную уравновешенность, столь щедро отмеренные людям средневековья? Не потому ль встревожились и восстали коронованные тени бывших властителей земли?
Тускл и тревожен колорит картины, странно это звездное и в то же время смутное небо. Наследники ль мы прошлого? Оставим ли след в будущем? Глазами звезд глядит Вселенная: порвется ль связь времен?
В противном же случае они мечутся и даже ищут Бога. Финитизм лежит в основе религиозной веры: а что после конца — потусторонний мир? Во что испепеляют молнии “Гимна”? Куда исчезают свет и тьма “Тишины”? Что такое эта космическая паутина и незримо присутствующий паук “Финала” “Сонаты солнца”?
Если даже неверующий видит не мир, а конечность мира, то он перестает быть неверующим и превращается в верующего. Вот почему у Чюрлениса рядом с темой конца появляется тема предсказания: вещие птицы и закаты, вещие смерти и катастрофы.
Источник