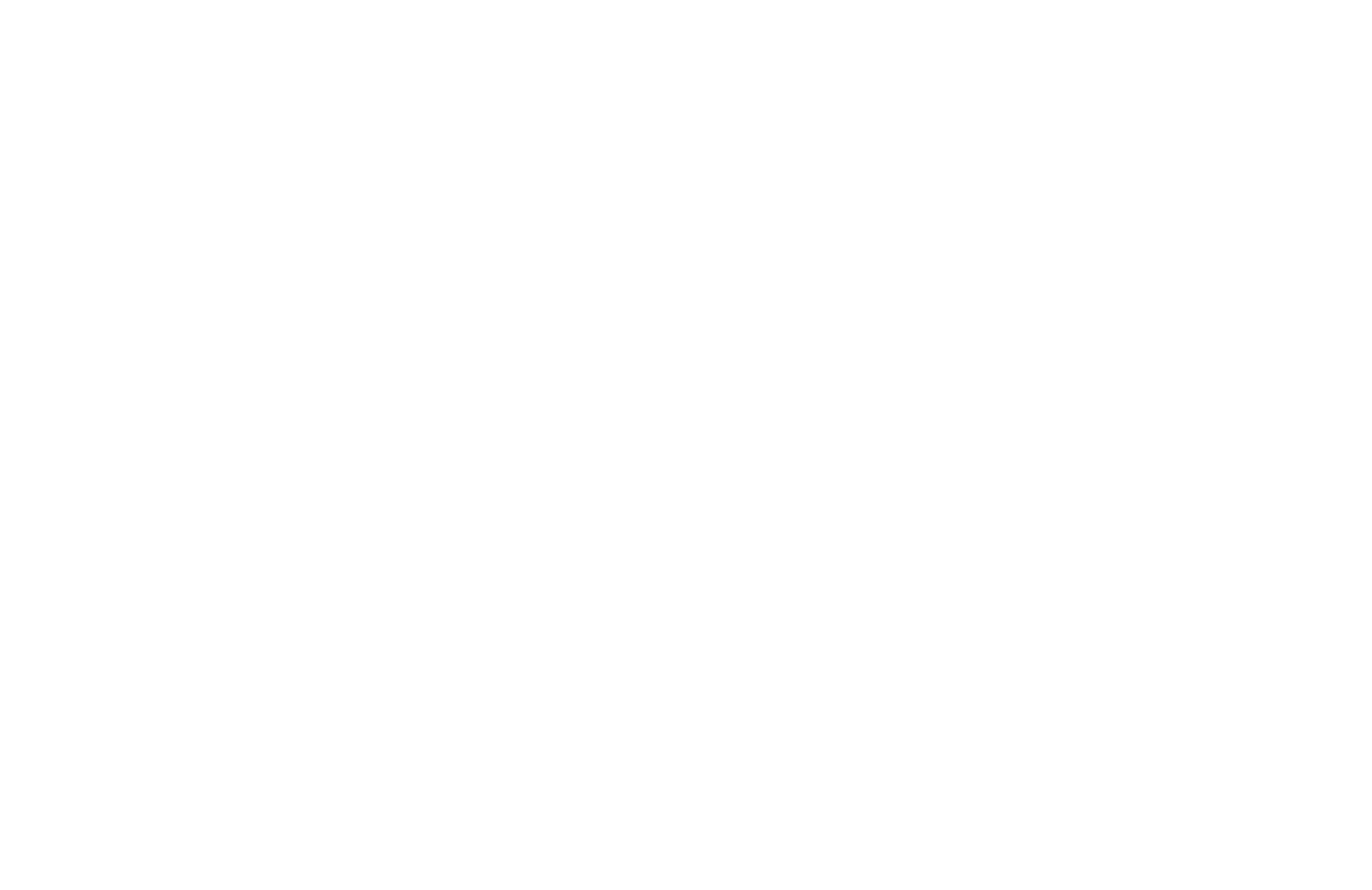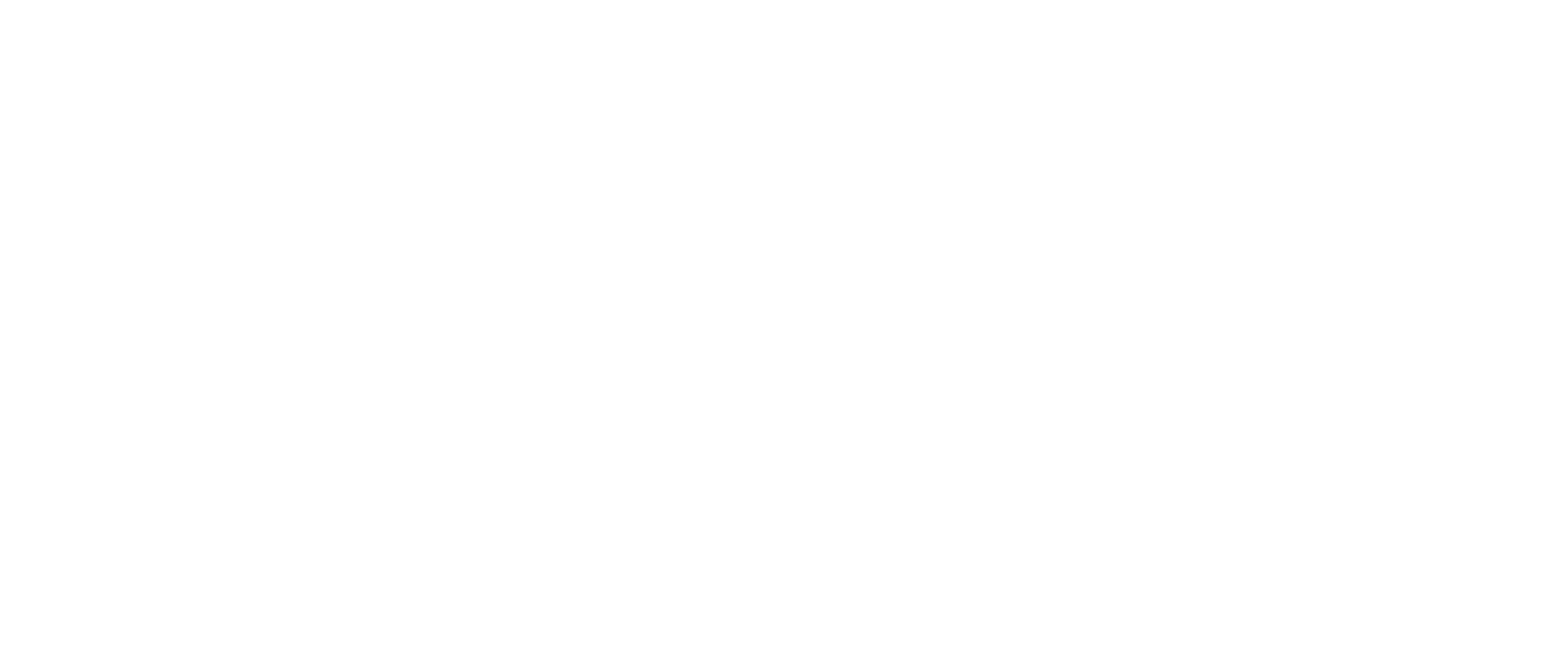Кладовая солнца что такое политика
«Верно судить о писателе можно только по семенам его, понять, что с семенами делается, а для этого время нужно и время. Так скажу о себе, что прямого успеха не имею и меньше славен даже, чем средний писатель… – записал однажды в Дневнике Михаил Пришвин.
Действительно, его произведения не на слуху: «Кащеева цепь», «Мирская чаша», «Черный араб», «Жень-шень»… – не растеряется только читатель Пришвина. Но «Кладовую солнца», включенную в школьную программу, знают почти все. Потому мы и решили о ней поговорить.
Мелькнул сюжетик для рассказа детям о лесе. Тиль-тиль и Митиль. В лесу. Тропинка расходится вилочкой. Поссорились в споре, по какой идти домой. Рассказ начинается описанием этих тропинок. Вечный спор – и дети заспорили. И пошли. Одна глава: переживания Тиля, другая – Митиль. Конец: обе тропы сливаются в одну.
«Кладовая солнца» далека от волшебной сказки – но в ней имеется ряд реликтовых признаков традиционного сказочного жанра: росстань, развилка – выбор пути, один из которых ведет к погибели; поиск места, «где никто не бывал», путь к которому неизвестен; болотные елочки своей формой и птицы своим криком, предостерегающие от беды; его гибель, спасение, подвиг, победа и явление героя.
Важную роль в сказке-были играют мифологемы ветра и воды: деструктивная роль ветра ограничивается безразличием к происходящему – ветер равнодушно разносит по Блудову болоту птичьи крики, вой волка и собаки, крик Насти; иное вода: по болоту с гибельной Слепой еланью проходит граница жизни и смерти.
Мир Блудова болота наполняется жизнью, которая выражается во взаимоотношениях человека и природы, что и становится сюжетом сказки-были. Сюжет строится как последовательность событий в жизни не отдельных персонажей, а мира в целом: мифологическая связь всего со всем создает особую атмосферу, особую атмосферу, в которой оказались Митриша и Настя.
Значение литературной (философской) сказки в культуре, начиная с последней трети 18 века общеизвестно – интерес писателей к сказке, написанной одновременно и для детей и для взрослых, от «Черной курицы» до «Синей птицы», «Маленького принца» и далее к сказкам советских и зарубежных писателей ХХ и ХХ1 века, продолжает расти. В русле культурной традиции литературы ХХ века* Пришвин «задался целью написать современную сказку» со сказочным содержанием настоящего дня.
* «Метареализм (metarealism) – художественно-интеллектуальное течение 1970-х–1990-х гг. в России То, что в искусстве обычно называют «реализмом», – это реализм всего лишь одной из реальностей, социально-эмпирической. Метареализм –реализм многих реальностей, связанных непрерывностью метаболических превращений. Есть реальность, открытая зрению муравья, и реальность, открытая блужданию электрона, и реальность, свёрнутая в математическую формулу, и реальность, про которую сказано: и горний ангелов полёт. Метареальный образ, метаморфоза, метабола –способ взаимосвязи всех этих реальностей, утверждение их растущего единства. Метареальный образ не просто отражает одну из этих реальностей (зеркальный реализм), не просто сравнивает, уподобляет (метафоризм), не просто отсылает от одной к другой посредством намёков, иносказаний (символизм), но раскрывает их подлинную сопричастность, взаимопревращение, достоверность и неминуемость чуда. «Я знаю кое-что о чудесах: они как часовые на часах» О. Седакова.
Чудеса блюдут законы иной реальности внутри этой, образ становится цепью метаморфоз, охватывающих Реальность как целое, в её снах и пробуждениях, в её выпадающих и связующих звеньях. Приставка «мета» прибавляет к «реализму» то, что сам он вычитает из всеобъемлющей Реальности». Эпштейн М. Дар Слова №122(175).
Возможно, когда-нибудь сказка Пришвина займет место среди произведений других писателей, бывших предтечами особого направления в литературе, которое теперь назвали метареализмом. Пришвин «задался целью написать современную сказку» со сказочным содержанием настоящего дня.
«Кладовая солнца» начинается былью – описанием трудной жизни Митраши и Насти в годы войны. Осиротевшие дети, стараясь вести себя в точности как некогда мать и отец, справляются со своим большим хозяйством, и в дружбе их царит «прекрасное равенство». Их жизнь просто и органично связана с природой. Однако полученный в наследство от родителей и принятый как простая и ясная истина образ жизни не выдерживает испытания, возникающего, как только дети покидают привычный, до мелочей знакомый, устроенный родителями домашний мир и попадают в Блудово болото. Тут и начинается сказка.
По пути в разговоре с Настей Митраша то и дело вспоминает отца: каждая его реплика начинается словами «отец говорил». Митраша идет по болоту уверенно, будто не один, а с отцом. От отца он все знает, и в словах «отец говорил» для него заключена истина, не требующая никаких доказательств. Настя, напротив, чувствует себя беззащитной и слабой перед «неминучей силой погибели» в болоте.
Природа встает перед ними в своей могучей силе. Все в этом мире живет единой жизнью: стон сплетенных деревьев вызывает отклик собаки, лисицы, волка и зайца – ветер разносит по Блудову болоту их вой, «ему все равно, кто воет». Это ветер замутил прекрасное утро, когда все живое с напряжением ожидает восхода «великого солнца». Природа принимает Митрашу и Настю: «Борина Звонкая охотно открыла детям свою широкую просеку». Они оказались не просто в лесу, а в особом мире Звонкой борины, которая впустила их в жизнь, здесь совершающуюся, и отныне каждый их поступок связывается с реальностью более значительной, чем реальность их прежней, обыденной жизни. Ведь даже великое солнце «со всеми его живительными лучами» закрылось серою хмарью», когда дети, поссорившись, разделились и пошли каждый своей тропой.
Чередование событий в природе соответствует развитию спора между детьми, и это ритмическое соответствие свидетельствует о единстве жизни, подтверждая реальность той связи, которая возникла между детьми и природой. Солнце скрылось, ветер рванул, застонали сплетенные друг с другом деревья, ворон догнал и долбанул косача, а мы чувствуем: что-то случится у этих маленьких людей, – вернее, уже случилось: Митраша и Настя, разделенные разным отношением к отцовским словам, разошлись и разными тропами пошли вглубь Блудова болота.
В «Кладовой солнца» сюжет был: брат и сестра пошли в лес за клюквой, их тропа в лесу разделилась, дети заспорили, поссорились, разошлись. Вот и все. Остальное навернулось на этот сюжет само собой во время писания.
Сказку я понимаю в широком смысле слова как явление ритма, потому что сюжет сказки есть не что иное, как трансформация ритма. Я это могу иллюстрировать из своего опыта создания сказки «Кладовая солнца». Когда застонали деревья, все части расположились как металлические опилки под полюсом магнита сказку, не подчиненную поэтическому ритму, я исключаю
В споре о том, каким путем идти им за клюквой, Настя говорит так: «Отец нам сказки рассказывал, он шутил с нами. И, наверно, на севере вовсе и нет никакой палестинки». В словах девочки сказка – просто заманчивый вымысел, который не имеет отношения к реальной жизни. Но в памяти Митраши слова отца о палестинке совсем другие: «Держите все прямо на север и увидите – там придет вам палестинка, вся красная, как кровь, от одной клюквы. На этой палестинке еще никто не бывал». В этих словах угадывается тайный наказ отца свои детям: «идите все прямо», «там придет вам палестинка» – придет? как награда? как чудо? и так важно, что на ней «еще никто не бывал». Может быть, отец-то говорил просто о клюкве, но у Митраши это осталось как мечта. Тут и трудный путь – Слепая елань, где погибло много «и людей, и коров, и коней»; тут и «чудесная», как называет ее Митраша, палестинка: непременно дойти, достигнуть этим путем, а не той тропой, «куда все бабы за клюквой ходят». «Мы должны идти по стрелке, как отец нас учил», – говорит Митраша. «Достигнуть» становится даже не мечтой, а долгом, который ставит перед собой сам человек.
Дважды на своей тропе должна была бы вспомнить о Митраше Настенька: когда заблудилась – о Митрашином компасе, и как только неожиданно вышла на ту самую палестинку. Но вопреки их прежней дружбе – то есть вопреки законам обыденной реальности, вопреки всему вековечному, глубокому, родовому, что связывало ее с братом – не вспомнила: ее душа незаметно слилась с жизнью самого леса, где каждый живет сам для себя. Настя ползет по болоту, собирая клюкву, «вся мокрая и грязная – прежняя Золотая курочка на высоких ногах». В осиннике лось спокойно обирает осинку и не пугается девочки, смотрит на нее, как на всякую ползающую тварь, и за человека ее не считает. Лось не узнал в ней человека, а собака Травка не узнала в ней своего хозяина – лесника Антипыча, которого она ищет, пытается узнать в каждом человеке и который, в ее понимании, «вовсе не умирал, а только отвернул от нее лицо свое». Не узнала, хотя из корзинки так заманчиво пахло картошкой и хлебом.
Неожиданно дернув клюквенную плеть у пня, на котором лежала огромная ядовитая гадюка, Настя вдруг очнулась. Ей представилось, что «это она сама осталась на пне и теперь вышла из шкуры змеиной и стоит, не понимая, где она». Увидев полную клюквой свою корзину, она все вспоминала: «брат голодный, и как она забыла о нем, как она забыла сама себя и все вокруг», – снова посмотрела на гадюку и пронзительно закричала: «Братец, Митраша!»
Лирическое отступление-притча проливает свет на происходящее: «Ах, ворон, ворон, вещая птица! Живешь ты, может быть, сам триста лет, и кто породил тебя, тот в яичке своем пересказал все, что он тоже узнал за свои триста лет жизни. И так от ворона к ворону переходила память обо всем, что было в этом болоте за тысячу лет. Сколько же ты, ворон, видел и знаешь, и отчего ты хоть раз не выйдешь из своего вороньего круга и не перенесешь к сестре на своих могучих крыльях весточку о брате, погибающем в болоте от своей отчаянной и бессмысленной смелости! Ты бы, ворон, сказал им…»
В этой маленькой притче скорбь о какой-то потере в природе, вызов личности, преодолевающей родовую память, ожидание небывалого усилия: «ты бы, ворон, сказал им» – ожидание слова. Последняя фраза обрывается. «Дрон-тон» – «урви чего-нибудь» – перекликнулись вороны, погасла притча, но остался ее ясный смысл: невозможно было «бедной Насте» вспомнить о брате, она еще раньше, не веря в «чудесную палестинку», что-то очень важное в себе потеряла. «Очень даже будет глупо нам по стрелке идти – как раз не на палестинку, а в самую Слепую елань угодим», – говорит она. Но слова девочки вовсе не кажутся верными после Митрашиных слов об отцовской палестинке. А отцовские, сказочные, живые, действуют, определяя поступки и Митраши, и Насти.
Что же так страшно предстало Настеньке в облике ядовитой гадюки? Что с ней произошло и что значит «забыла сама себя и все вокруг»? Может быть, то неверие в палестинку, которое пустила в свою душу девочка, так далеко увело ее и разделило с любимым братцем Митрашей? И вот теперь она опомнилась, увидела свою душу без любви и ужаснулась. Нет, стать прежней Золотой курочкой невозможно: свет притчи о вороне, вызывающий личность к действию, коснулся девочки: любовь требует личных усилий, и к естественному, само собой разумеющемуся родовому чувству просто так уже не вернешься.
Так один за другим нарушаются и перестают действовать, как оказалось, весьма условные законы повседневной реальности. Их вытесняют и начинают парадоксально действовать, создавая иную реальность, законы совсем другие, связанные с глубиной жизни, с ее смыслом, с тайной личности.
Действие сказки разворачивается в двух мирах: хронотоп реальной жизни Митраши и Насти с очевидностью вытесняется сказочным хронотопом. В самом деле, всего несколько часов прошло с тех пор, как дети ранним утром вошли в лес, но Настя прожила огромное, неизмеримое часами время, и именно оно становится реальным: вечность промелькнула между тем мгновением, когда Настя говорила, что отцовской палестинки вовсе нет, и моментом, когда она на этой палестинке закричала «Братец, Митраша!» Обнаруживается сказочный гиперболизм времени (Бахтин): с временем что-то происходит – оно пролетает и одновременно растягивается, так как вмещает совершенно новые смыслы. И для Насти, и для читателя, астрономическое время исчезает.
Реальность иного, неизмеримого часами времени связана и с Антипычем. Он существует в сказке-были только в памяти Травки и в воспоминаниях геологов, от имени которых и ведется рассказ. Но Травка ищет Антипыча, для нее он «не умирал, а только отвернул лицо свое»ей нужно и можно его найти.
Одинокий старый лесник и его собака Травка, единственный верный друг, которому он «перешепнул» слова о «большой человеческой правде». Умирая, не человеку, а собаке доверил он нести эти слова как главную нажитую им мудрость, и можно лишь предполагать, догадываться, что это были за слова. Так с интонацией предположения и догадки они и появляются в сказке. Как обещал геологам, так и сделал: «И мы думаем: эта правда есть правда вековечной суровой борьбы людей за любовь».
Эти слова структурируют мир Блудова болота: с одной стороны «большого полукруга» Блудова болота несется «печальный плач», «живой стон», «призыв к себе нового человека», «собачья молитва» Травки; с другой – вой волка Серого помещика, злейшего врага человека. Мир Блудова болота становится ареной борьбы добра и зла. И в душах двух маленьких детей, Митраши и Насти, идет невидимая борьба «за единство самого человека» – всечеловека, который «всегда глядит через каждого», «переливается во всем своем разнообразии», порой собирается в одном лице – и «тогда забудешь о времени, и как будто в этом лице весь-человек». Именно так и происходит – весь-человек собрался в лице Антипыча, и время исчезло.
Источник
«Кладовая солнца», анализ сказки Пришвина
История создания
Повесть-сказка «Кладовая солнца» была написана примерно за месяц и закончена в начале июня 1945 г. Пришвин принял участие в конкурсе на лучшую книгу для детей, объявленную Министерством просвещения РСФСР. Пришвин на конкурсе победил, и произведение напечатали в журнале «Октябрь» №7 за 1945 г.
С 1941 по 1945 гг. Пришвин был эвакуирован в деревню Усолье Ярославской области, где протестовал против вырубки леса торфоразработчиками. Там он наблюдал жизнь детей-сирот, десятилетней Сони и одиннадцатилетнего Бори, которые успешно справлялись с хозяйством. Они стали прототипами 12-летней Насти и 10-летнего Митраши.
Пришвин не имел четкого замысла, первоначально собираясь описать, как в лесу дети поссорились и пошли собирать клюкву разными тропами. Дальнейший сюжет сложился сам собой в процессе написания.
Пришвин долго размышлял над названием. То он хотел назвать повесть по прозвищам главных героев («Золотая Курочка и Мужичок в мешочке»), по их отношениям («Друзья»), то по месту действия («Тропа испытаний», «Блудово болото»), то по проблематике («Правда Антипыча», «Друг человека»). Метафора «Кладовая солнца» придумана вовсе не Пришвиным. Это точное выражение он нашёл в исследовании о болотах, где они назывались так, потому что хранили солнечные огонь и тепло, заключенные в растениях.
Литературное направление и жанр
Пришвин дал жанровое определение «Кладовой солнца» сам, назвав её сказкой-былью. Это не соединение в жанровом определении двух антонимов. Реалист Пришвин считал, что его «вещицы» больше сказок, потому что «превращают действительность в сказку». Таким образом, пишется «сказка, заключенная в категории пространства и времени», «сказка без Ивана-царевича и Бабы Яги», «новая сказка, которая жила бы в реальной жизни».
Вечные ценности, которые воспеваются в сказках, побеждают и в современной сказке-были. Себя же Пришвин считал современным сказителем.
Тема, основная мысль и композиция
Эта повесть о связи человека и природы, об истинной человечности, которая и делает человека царем природы, покровительствующим всему живому на земле, другом всему живому. Основная мысль – прославление дружбы и коллективизма. Конечно же, идея связана с победой в войне, которая в момент действия повести, в 1942 г., была только надеждой. Пришвин вводит образ друга и врага, это собака, «вернейший друг человека», и волк, «злейший враг его, самой злобой своей обречённый на гибель». Это образ фашистов, хотя ни о них, ни о военных действиях в повести не упоминается.
Кажется, что название не связано ни с темой, ни с основной мыслью, а просто обозначает место действия. Но это не так, ведь солнце – друг и божество всего живого, его кладовая – лежащие близко друг с другом умершие травы – символ товарищества и даже братства.
Повесть состоит из 12 частей. Первая часть играет роль экспозиции, в ней рассказывается о хорошей трудовой жизни осиротевших детей. Вторая часть – это завязка. В ней рассказано о том, как весной дети собирались за перезимовавшей под снегом полезной клюквой. Митраша во всём подражает отцу. Он берёт с собой компас, манки, чтобы приманивать птиц, двустволку. Настя, как мать, берёт полотенце для тяжёлой корзины, вчерашнюю картошку, хлеб и молоко.
Митраша мечтает найти кроваво-красную палестинку, то есть нетронутую полянку, где полно клюквы. Отец рассказывал ему, что она находится возле Слепой елани – коварного болота.
В третьей части дети приходят в борину (сосновый бор посреди болота) Звонкую. Они выбирают путь малозаметной тропой на север. В четвёртой части напряжение нарастает. У Лежачего камня, где отдыхают дети, происходит сразу несколько конфликтов между деревьями, токующими тетеревами, тетеревом и вороном. Они будто провоцируют ссору детей, которые спорят о пути и расходятся, при этом все запасы еды остаются у Насти.
Пятая часть – ретроспективный эпизод о собаке Травке, живущей в картофельной яме возле сторожки Антипыча, умершего два года назад.
Шестая глава тоже ретроспективна и посвящена борьбе с волками на Сухой речке, «волчьей крепости». Всех волков перестреляли, оградив место охоты флажками, так что они утратили «волчий смысл». И только Серый помещик перемахнул через флажки и делал так еще пять раз. Тех пор он порезал овец больше, чем вся волчья стая. В начале весны Серый помещик был злой и голодный. Он услышал вой Травки.
В седьмой главе первоначальный сюжет возобновляется. Травка по следу зайца дошла до Лежачего камня и решила сперва пойти по следу детей, унюхав, что именно у Насти была еда. Так она однажды верхним нюхом нашла в лесу Антипыча.
Восьмая глава кульминационная. Митраша по едва заметной тропе дошёл до Слепой елани и решил сократить путь, ведь человеческая тропа уходила влево от стрелки компаса. «Маленький человечек» увяз по грудь в болоте и позвал сестру, услышав её крик. Но ветер был со стороны девочки, и она не услышала брата. Только сороки и вороны предвкушали его скорую гибель.
В девятой главе сходятся сюжетные линии Насти и Митраши, как должны были сойтись их тропы на полной ягод палестинке. В Насте проснулась жадность к кислой клюкве, и она набрала полную корзину, забыв о еде и о брате.
Потерявшая человеческий облик, забывшаяся Настя очнулась, только столкнувшись со змеёй. Потянувшись за хлебом для пришедшей Травки, Настя осознала, как много времени прошло, и в отчаянье позвала брата. Это тот самый крик, который слышал Митраша в главе 8.
В десятой главе Травка, завывшая по Настиному горю, услышала, как лиса гонит зайца, и решила из-под лисицы поймать его, потом сама погнала на Слепую елань.
В одиннадцатой главе ещё одна кульминационная точка: в погоне за зайцем травка оказывается рядом с Митрашей, который называет её по имени, узнаёт в нём Антипыча и подползает к мальчику, невольно помогая вылезти ему из болота.
В двенадцатой главе наступает счастливая развязка. Митраша готовится убить зайца, но сначала убивает Серого помещика, с которым столкнулся в кустах. Брат и сестра встречаются. Утром односельчане выходят на их поиски, но дети возвращаются навстречу с добычей. Соседи не сразу поверили, что Митраша убил волка. Он превращается в героя, а через два года становится высоким красавцем. А Настя отдала всю свою клюкву сиротам из Ленинграда, мучаясь от своей жадности. В конце рассказчик открывает свою личность разведчика болотных богатств.
Герои повести
Настя и Митраша – сироты, которых опекает всё село. Насте 12 лет, она похожа на Золотую Курочку на высоких ножках, её волосы отливают золотом, веснушки частые и крупные, как золотые монетки, а носик чистенький и торчит вверх. Митраша на 2 года младше, упрямый и сильный. Он коротенький, но очень плотный, лобастый, с широким затылком. За такую внешность он получил прозвище «Мужичок в мешочке». У него тоже был торчащий вверх носик и веснушки.
От родителей детям досталось большое хозяйство (корова, тёлочка, коза, овечки, куры, поросёнок), и они с ним прекрасно справлялись. Рассказчик их характеризует как детишек умных, дружных, готовых помогать на общественных работах, так необходимых во время войны. Рассказчик очень тепло относится к детям, как и остальные жители села, называет их нашими любимцами.
Дети работали не покладая рук, как взрослые. Настя вставала до рассвета и хлопотала по хозяйству до ночи, выполняя все женские обязанности. Митраша делал деревянную посуду, выполнял мужские обязанности и принимал участие в общественных делах.
Митраша строптив, его любимая присказка «вот ещё». Но он упорен, решает идти по компасу на север во что бы то ни стало.
Мальчик умён, но у него мало жизненного опыта. Именно поэтому он попадает в болотную западню, но выживает не только благодаря Травке, но и своей смекалке.
Настя вспыльчива, как и брат, хотя она старше. Но ей только 12 лет, и она не всегда может отвечать лаской на упрямство брата. Рассердившись, она краснеет, как кумач, плюет в сторону брата и забывает о нём на целый день. Девочка увлекается сбором клюквы и за день набирает огромную корзину. Настя от жадности к клюкве теряет свой милый облик. Она ползает мокрая и грязная, «бывшая Золотая Курочка». Когда Настя очнулась, она раскаялась в своей жадности. А передача клюквы сиротам из Ленинграда была искуплением за её проступок, хотя никто, кроме рассказчика, её и не осуждал.
Собака Травка – полноценный герой повести. Она наделена человеческой душой. У неё случилось горе, ужасное несчастье – смерть хозяина. Травка – рыжая гончая собака с черным ремешком по спине и с чёрными полосками под глазами с загибом вроде очков.
Травка, по словам Антипыча, понимает всё лучше людей. Смысл жизни Травки в том, чтобы работать на хозяина, для него она ловила зайцев. И после его смерти собака часто забывалась и приносила зайцев к разрушенной сторожке Антипыча.
Для Травки всё человечество было Антипычем, только с разными лицами. Своим воем Травка призывала к себе Антипыча, это была мольба о человеке. И брат, и сестра неправильно произносят её имя. Настя по ассоциации называет её Муравкой, а Митраша называет её настоящее имя Затравка, от которого отпало начало. Травка откликается на любое из имён, как в каждом человеке видит Антипыча или его врага. Она обретает своего хозяина, молодого Антипыча – Митрашу.
Антипыч подобен волшебному мудрецу. Его возраст никому не известен (больше 80 лет и меньше 100). Рассказчику казалось, что Антипыч никогда не умрёт. Антипыч – хранитель правды. Эту тайну у него пытается выведать рассказчик. Но Антипыч не говорит, где правда, а обещает шепнуть на ушко травке перед смертью. В 11 главе Пришвин догадывается, что это правда вековечной борьбы людей за любовь.
Повесть написана от первого лица множественного числа (мы). Это редкая форма повествования, связанная с идеей превосходства коллективного над личным.
Художественное своеобразие
Пришвин – певец русской природы, так что описательная часть в его рассказах часто преобладает над повествовательной. Сюжет оказывается на втором плане. В повести «Кладовая солнца» тоже очень важны описания природы и объяснения природных явлений. Митраша вспоминает, почему цветочки называются волчьим лыком, где живёт волк Серый помещик, порезавший перед войной деревенское стадо.
Прекрасно сказочное описание того, почему поют птицы. Они все пытаются выговорить слово «Здравствуйте». Таким образом, вся природа очеловечена, обращена к человеку и стремится к нему.
При этом природа божественна, вся она поклоняется солнцу. Она сравнивается с храмом, а освещённые восходящими лучами сосны – с зажжёнными свечами. Пение птиц в этом храме посвящено солнцу.
Для создания напряжения автор использует психологический параллелизм. Ещё до возникновения опасности и психологического напряжения читателя возникает образ двух соперничающих деревьев, растущих из одной точки возле Лежачего камня, сосны и ели. Они 200 лет борются за питание, воздух и свет, впиваются сучьями друг в друга, рычат, стонут и воют (метафоры), как звери. В этом природном образе скрыты отношения между людьми и между людьми и другими животными. Если волк воет от ненависти к человеку, то собака – от тоски по человеку. Да и сами люди могут поступить, как эти два разных дерева, родственные друг другу. В образе воюющих деревьев скрыта ещё не случившаяся ссора брата и сестры, а ещё – конфликты между людьми вообще и даже длящаяся война.
Источник