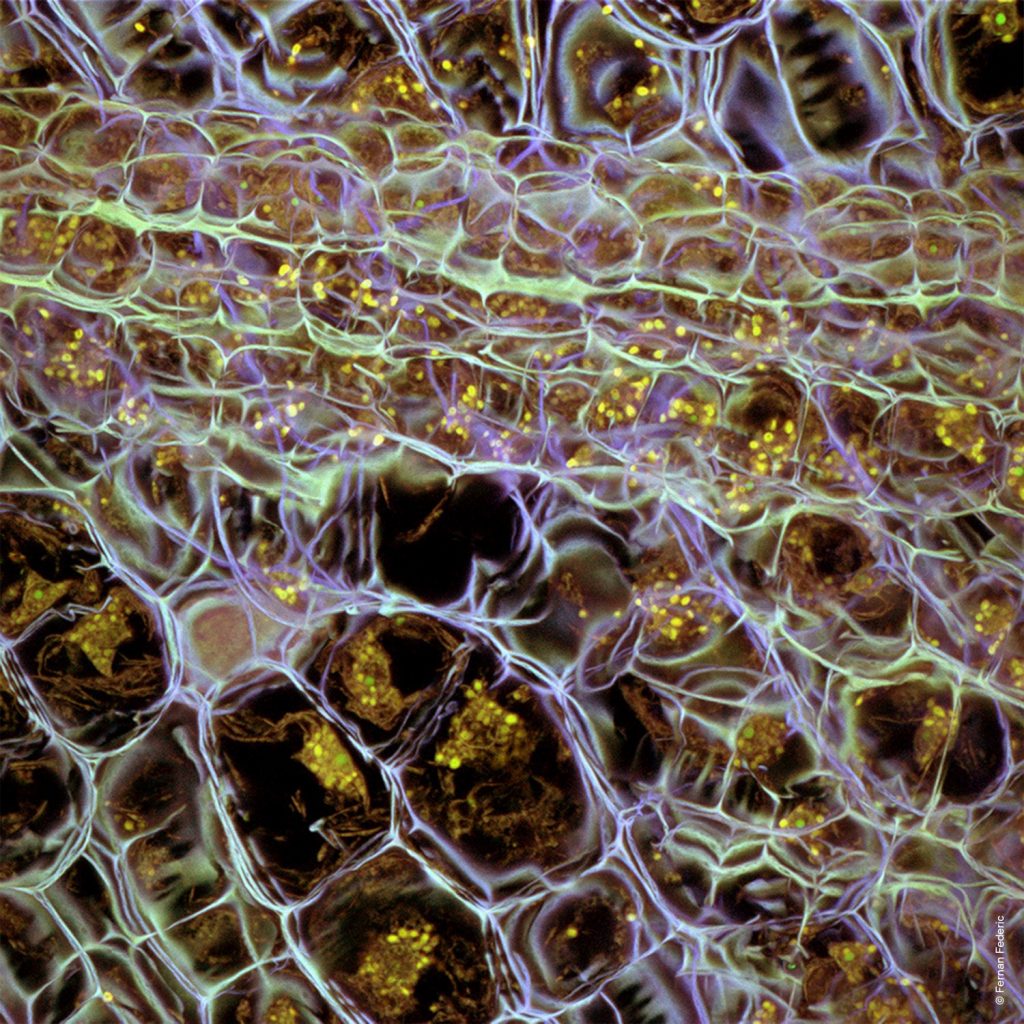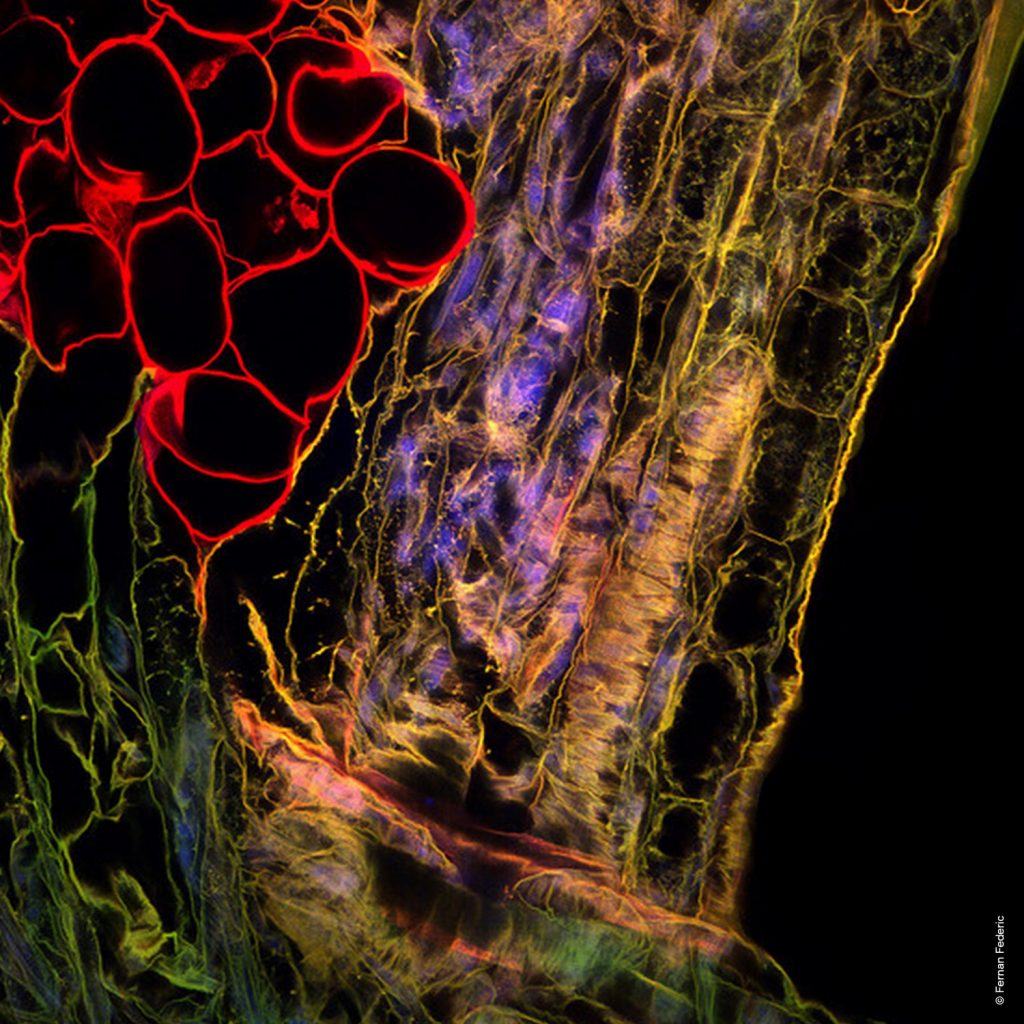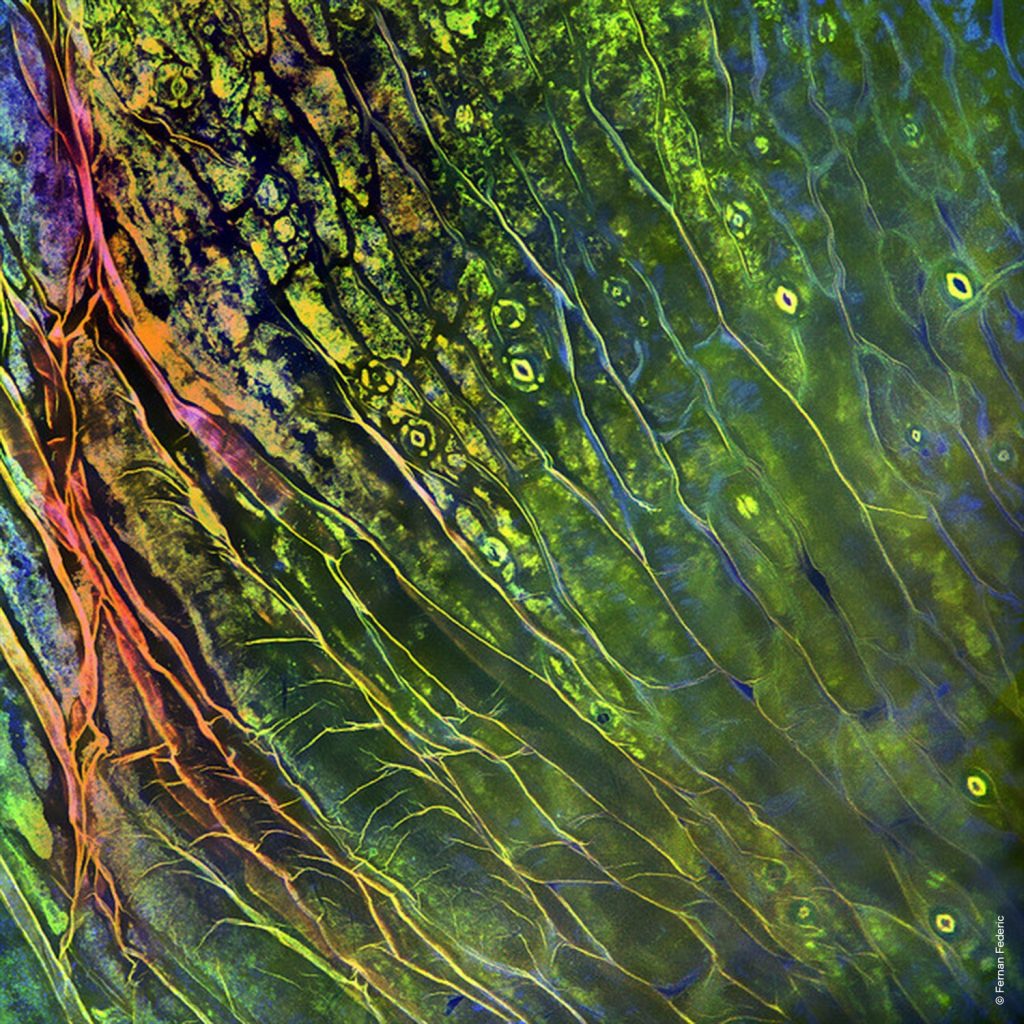Вселенная без Эйнштейна: почему физики больше не ищут теорию всего
Альберт Эйнштейн снова умирает. Впервые он ушел из жизни 18 апреля 1955 года в Германии. Сейчас он переживает вторую смерть, если верить очередному всплеску статей и исследований, оплакивающих судьбу современной физики. Под угрозой оказалось не открытие гравитационных волн, которые Эйнштейн предсказал столетие назад. Кое-что поважнее гравитации и квантовой теории сегодня ставится под сомнение.
Эйнштейн в свое время поставил основную цель современной науки: поиск единой теории , «теории всего», которая объяснила бы, почему Вселенная, в которой мы живем, не может выглядеть и функционировать иначе.
«Мне интересно, был ли у Господа хоть какой-нибудь выбор при создании мира» — вот что писал Эйнштейн.
Прошлым летом в научном журнале Quanta вышла статья под названием «Законов физики не существует». Ее автор — Робберт Дийкграаф, директор Института перспективных исследований, в котором Эйнштейн провел 22 года жизни.
Доктор Дийкграаф пишет о пугающе разветвленном лабиринте возможностей — почти бесконечной сети со слабыми взаимосвязями, состоящей из альтернативных версий реальности.
Существуют отдельные вселенные для каждого кошмара, который вы видели во сне, и в каждой из них действует свой свод фундаментальных законов физики.
Этот ландшафт альтернативных возможностей, известный как мультивселенная , активно используется в теории струн, которая явно перешагнула Эйнштейна по уровню научной фантазии.
Теория струн объединяет в себе представления о гравитации, которая опоясывает космос, с квантовой механикой, которая описывает существующий в нем хаос. В теории струн фундаментальные компоненты всего существующего представлены в виде крошечных струн энергии (квантовых струн), испускающих колебания в 11 измерениях.
XX век был совершенно не готов к появлению теории струн, XXI век позволил ей получить значительный толчок в развитии. Но чтобы теория струн показала свою полную мощь, понадобятся умы математиков XXII столетия.
Результатом этой теории стал лабиринт математических решений в количестве 10⁵⁰⁰, где каждое решение соответствует одной из потенциальных вселенных. Какая-то из этих них — наша, но это не точно. Такие дела.
Доктор Дийкграаф пишет: «Если наш мир — лишь один из многих, что нам делать с остальными? Взгляд современной физики на Вселенную — это полная противоположность представлениям Эйнштейна о едином космосе».
Дийкграаф, кстати, сказал, что название своей статье придумывал не он, и считает его излишне громогласным. Возможно, за теорией струн всё же есть некий единый фундаментальный принцип. Однако никто, в том числе и создатели теории, даже предположить не могут, каким может быть этот принцип.
Что привело ученых к теории струн? Открытие загадочной силы, «темной энергии» , которая ускоряет расширение Вселенной, отдаляя галактики друг от друга всё с большей скоростью.
Темная энергия имеет все признаки космологической постоянной , которую Эйнштейн вводил в свои уравнения теории относительности столетней давности, но потом от нее отказался. Однако экспериментальное значение этой космологической постоянной отличается от теоретического на 10⁶⁰ (это крайне большой разрыв между расчетной и экспериментальной величиной. Это явление даже получило название «проблемы космологической постоянной». — Прим. ред.).
Пока что физики дают единственное объяснение этой проблеме: возможно, во всех альтернативных вселенных эта постоянная принимает случайное значение. Это значит, что мы живем в одной из тех вселенных, где количество темной энергии позволяет сформироваться звездам и галактикам — там, где это в принципе возможно.
Другие физики считают ландшафт теории струн логическим продолжением коперниканской революции : если Земля может не быть центром Солнечной системы и единственной планетой, наша вселенная тоже может быть не единственной.
Существует и группа ученых, которые считают идею мультивселенной эпистемологическим абсурдом, тупиковой ветвью познания, основанного на бездоказательных спекуляциях.
Долгожданное открытие бозона Хиггса в 2012 году стало последним кирпичиком в фундаменте амбициозной теоретической конструкции в физике элементарных частиц, известной как Стандартная модель элементарных частиц .
Стандартная модель объясняет все формы материи и энергии, кроме темной материи и энергии. Физики всего мира искали отклонения в Стандартной модели с помощью Большого адронного коллайдера, сталкивая триллионы протонов. Найденный бозон Хиггса ведет себя согласно предсказаниям Стандартной модели.
Это величайшее интеллектуальное достижение, но оно совсем не радостно. Отсутствие несоответствий не поможет углубить существующую теорию. К примеру, ученым очень хотелось, но не удалось найти подтверждения суперсимметрии — теории о том, что у каждой элементарной частицы есть гораздо более тяжелый «суперпартнер». А ведь эта теория могла бы связать воедино физические силы и расширила бы наши представления об элементарных частицах (куда бы уже можно было включить темную материю).
Сабин Хоссенфельдер, физик-теоретик Франкфуртского института перспективных исследований, опасается, что суперсимметрии предначертано остаться лишь мечтой. В прошлом году Сабин стала одним из самых громких критиков состояния современной физики, выпустив книгу с провокационным названием «Заблудшие в математике: куда ведет физику поиск красоты».
Хоссенфельдер утверждает, что современные физики сбились с пути в погоне за математической грацией: «Они поверили, что матушка природа следовала простому и элегантному замыслу и обязательно даст нам знак. Они думали, что слышат ее шепот, а в действительности говорили сами с собой».
Физики не согласны с этими обвинениями: они полвека гонялись за бозоном Хиггса и уже почти опустили руки, пока матушка природа чуть ли не вложила его им в ладони.
Тем временем космологи (весьма разношерстная группа ученых), наконец сошлись во мнениях о стандартной модели нашей Вселенной. Согласно их представлениям, атомы, из которых состоим мы с вами и звёзды вокруг нас, составляют лишь 5 % от массы всего космоса.
Темная материя (о которой мы знаем только то, что она каким-то образом удерживает вместе галактики) составляет 25 % от общей космической массы. Оставшиеся 70 % приходятся на темную энергию , которая удаляет галактики друг от друга. О ней мы тоже больше ничего не знаем. В целом о существовании этой темной стороны вселенной мы знаем только по аномальной скорости вращения звезд и галактик.
Итак, у нас есть физическая теория, которая предполагает 95 % неисследованной вселенной. Вряд ли это может означать конец науке.
В конце концов, мы можем заблуждаться в наших представлениях о гравитации. «Боюсь, мы переоцениваем наследие Эйнштейна», — говорит астроном Университета Case Western Reserve Стейси Макгоу. Лучший подарок для любого современного физика — это новые неожиданные свидетельства, которые могли бы пошатнуть «стандартные модели».
Возможно, прорыв случится, когда мы выясним природу темной материи. Возможно, что-то новенькое нам подкинет Большой адронный коллайдер, где каждое зарегистрированное столкновение частиц — новый шаг в неизвестность.
Во вселенной может быть 11 измерений. А может быть, она — лишь плод чьей-то фантазии. Может быть, жизнь зародилась на Марсе, а может, мы — биты информации в компьютерной симуляции.
Сам поиск истины о нашем существовании и мире вокруг нас — вечный источник человеческого вдохновения, будь то музыка, искусство или наука. Пока поиск продолжается, у нас есть смысл жизни.
Источник
Все за сегодня
Политика
Экономика
Наука
Война и ВПК
Общество
ИноБлоги
Подкасты
Мультимедиа
Забытая модель вселенной, предложенная Эйнштейном
В 1917 году Альберт Эйнштейн поразил физический мир, опубликовав общую теорию относительности, в которой он описал гравитацию как геометрическое свойство пространства-времени. Это сразу же поставило вопрос о структуре вселенной в целом, из которого развилась современная космология.
В течение нескольких следующих лет многие ученые разрабатывали различные модели структуры пространства-времени. Этим занимались и русский физик Александр Фридман, и голландский математик Виллем де Ситтер (Willem de Sitter), и бельгийский священник Жорж Леметр (Georges Lemaitre). В этой дискуссии Эйнштейн принимал сравнительно мало участия, ограничившись несколькими важными репликами.
В то время было принято считать, что вселенная находится в стабильном состоянии — не расширяется и не сокращается. Поэтому Эйнштейн ввел в свою модель космологическую постоянную, которая могла регулироваться, чтобы вселенная не расширялась и не сокращалась.
Однако у головоломки отсутствовала ключевая часть. Примерно тогда же Эдвин Хаббл (Edwin Hubble) начал публиковать данные, согласно которым видные астрономам «островные вселенные» или галактики были намного дальше звезд и стремительно удалялись от нас. Его вывод, кардинально изменивший наши представления о мире, заключался в том, что вселенная расширяется.
Ведущие физики того времени сразу же осознали значимость открытия Хаббла. Если он был прав, модель вселенной нужно было менять.
В результате в 1932 году Эйнштейн и де Ситтер опубликовали новую модель, в рамках которой они отказались от космологической постоянной, позволив вселенной расширяться. В дальнейшем эта модель стала для космологического сообщества основной «рабочей лошадкой».
Сейчас Кормак O’Раферти (Cormac O’Raifeartaigh) и Брендан Макканн (Brendan McCann) из ирландского Уотефордского института технологии продемонстрировали важный этап продвижения Эйнштейна к этой модели, впервые переведя малоизвестную статью создателя теории относительности, написанную на год раньше работы 1932 года.
В этой статье, озаглавленной «Zum kosmologischen Problem der allgemeinen Relativitätstheorie» («К космологической проблеме общей теории относительности»), Эйнштейн предлагает модель вселенной, которая сначала расширяется, а потом сокращается. Этот процесс начинается с сингулярности и ею же заканчивается. Данная модель также важна, потому что она впервые придает космологической постоянной нулевое значение.
Сперва O’Раферти и Макканн обсуждают исторический контекст статьи. Эйнштейн, по-видимому, написал ее после своего визита в США, продолжавшегося три месяца. Большую часть этого времени он провел в Принстоне, но также успел съездить к Хабблу, чтобы обсудить его открытия.
Интересно, что в своей статье Эйнштейн постоянно пишет фамилию Хаббла с ошибкой. По мнению авторов, это доказывает, что он был плохо знаком с работами американского астронома. В статье также отсутствует ряд важных ссылок, вероятно, пропущенных в спешке — O’Раферти и Макканн считают, что Эйнштейн написал ее всего за четыре дня.
Модель, которую Эйнштейн опробует в статье, носит явно переходный характер. Скажем, она предполагает положительную кривизну пространства-времени. Это было необходимым элементом эйнштейновской модели стабильной вселенной, однако позднее оказалось необязательным в рамках расширяющейся модели, которая могла иметь как положительную кривизну, так и отрицательную или нулевую. О возможности последнего Эйнштейн и де Ситтер писали годом позже.
Один из наиболее интересных аспектов статьи связан с попыткой Эйнштейна на основании своей модели вычислить размер вселенной, который он оценивает в 10^8 световых лет или 9,5×10^25 сантиметров в радиусе (на несколько порядков меньше, чем по современным оценкам).
В связи с этим он оценивает возраст вселенной примерно в 10 миллиардов лет. Согласно современному консенсусу, вселенной около 14 миллиардов лет.
Как отмечают O’Раферти и Макканн, непонятно, на чем основана оценка Эйнштейна. Они предполагают, что в ее основе лежат некие расчеты Фридмана. Они также указывают, что в спешке Эйнштейн допустил в расчетах ряд ошибок.
«Эйнштейн здесь выглядит, скорее, увлекающимся космологом, чем ученым, пытающимся показать совместимость своей величайшей теории с поразительными новыми астрономическими наблюдениями», — отмечают они.
Это интересный материал не только об эволюции взглядов Эйнштейна на природу вселенной, но и о личности самого Эйнштейна. Кто из нас не работал второпях и потом не замечал ошибок в своей работе?
Заметим, что после совместной работы 1932 года с де Ситтером Эйнштейн почти не проявлял интереса к космологии, предпочитая заниматься не удавшимися в итоге попытками объединить относительность с квантовой теорией.
Эйнштейн один из самых обсуждаемых и изученных исследователей в истории. Поэтому крайне странно, что находятся его работы, которые до сих пор не были переведены на английский. Однако именно это и делает перевод O’Раферти и Макканна ценным добавлением к корпусу материалов об этом удивительном человеке.
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.
Источник
Яркие высказывания Эйнштейна о жизни и Вселенной
Школа подвела меня, и я подвел школу. Мне было скучно. Учителя вели себя как фельдфебели (сержанты). Я хотел узнать то, что хотел знать, но они хотели, чтобы я узнал для экзамена. Больше всего я ненавидел там соревновательную систему и особенно спорт. Из-за этого я ничего не стоил, и несколько раз мне предлагали уйти.
Это была католическая школа в Мюнхене. Я чувствовал, что моя жажда знаний была задушена моими учителями; оценки были их единственным измерением. Как учитель может понять молодежь с такой системой?
С двенадцати лет я начал подозревать авторитетных учителей и не доверять им. Я учился в основном дома, сначала у дяди, а потом у студента, который приходил к нам обедать раз в неделю. Он давал мне книги по физике и астрономии.
Чем больше я читал, тем больше меня озадачивали порядок Вселенной и беспорядок человеческого разума, ученые, которые не сходились во мнении о том, как, когда и почему было всё сотворено.
И вот однажды этот студент принес мне «Критику чистого разума» Канта. Читая Канта, я начал сомневаться в том, чему меня учили. Я больше не верил в известного библейского Бога, а скорее в таинственного Бога, выраженного в природе.
Высказывания Альберта Эйнштейна о смысле жизни и вере, о науке и религии
Основные законы Вселенной просты, но поскольку наши чувства ограничены, мы не можем их постичь. В творении есть закономерность.
Если мы посмотрим на это дерево снаружи, корни которого ищут воду под тротуаром, или на цветок, который посылает свой сладкий запах пчелам—опылителям, или даже на нас самих и внутренние силы, которые побуждают нас действовать, мы увидим, что все мы танцуем под таинственную мелодию, и дудочник, который играет эту мелодию с непостижимого расстояния — какое бы имя мы ему ни дали — Творческая Сила или Бог-ускользает от всех книжных знаний.
Наука никогда не заканчивается, потому что человеческий ум использует лишь малую часть своих возможностей, а исследование мира человеком также ограничено.
Творение может быть духовным по своему происхождению, но это не значит, что все сотворенное духовно. Как я могу объяснить вам такие вещи? Давайте признаем, что мир — это тайна. Природа не является ни исключительно материальной, ни полностью духовной.
Человек тоже больше, чем плоть и кровь; иначе никакие религии были бы невозможны.
За каждой причиной стоит еще одна причина; конец или начало всех причин еще предстоит найти.
Однако следует помнить только одно: нет следствия без причины, и в творении нет беззакония.
Если бы у меня не было абсолютной веры в гармонию творения, я бы не пытался в течение тридцати лет выразить ее в математической формуле. Только осознание человеком того, что он делает своим умом, возвышает его над животными и позволяет ему осознать себя и свое отношение к Вселенной.
Я верю, что у меня есть космические религиозные чувства. Я никогда не мог понять, как можно удовлетворить эти чувства, молясь ограниченным объектам. Дерево снаружи-это жизнь, статуя мертва. Вся природа есть жизнь, а жизнь, как я ее вижу, отвергает Бога, похожего на человека.
Человек имеет бесконечные измерения и находит Бога в своей совести. [Космическая религия] не имеет другой догмы, кроме учения человека о том, что вселенная рациональна и что его высшее предназначение-размышлять над ней и творить вместе с ее законами.
Мне нравится воспринимать Вселенную как одно гармоничное целое. В каждой клетке есть жизнь. Материя тоже имеет жизнь; это затвердевшая энергия. Наши тела подобны тюрьмам, и я с нетерпением жду освобождения, но не размышляю о том, что со мной случится.
Теперь я живу здесь, и моя ответственность лежит в этом мире. Я занимаюсь законами природы. Это моя работа здесь, на Земле.
Мир нуждается в новых моральных импульсах, которые, боюсь, не будут исходить от церквей, сильно скомпрометированных на протяжении веков.
Возможно, эти импульсы должны исходить от ученых в традициях Галилея, Кеплера и Ньютона. Несмотря на неудачи и гонения, эти люди посвятили свою жизнь тому, чтобы доказать, что Вселенная — единое целое, в котором, как я полагаю, очеловеченному Богу нет места.
Настоящего ученого не трогают похвалы или обвинения, и он не проповедует. Он открывает Вселенную, и люди приходят с нетерпением, без всякого принуждения, чтобы увидеть новое откровение: порядок, гармонию, великолепие творения!
И по мере того, как человек начинает осознавать колоссальные законы, управляющие Вселенной в совершенной гармонии, он начинает осознавать, насколько он мал. Он видит ничтожность человеческого существования с его амбициями и интригами, с его убеждением «Я лучше тебя».
Это начало космической религии внутри него; общение и человеческое служение становятся его моральным кодексом. Без таких моральных основ мы безнадежно обречены.
Если мы хотим улучшить мир, мы не можем сделать это с помощью научных знаний, но с помощью идеалов. Конфуций, Будда, Иисус и Ганди сделали для человечества больше, чем сделала наука.
Мы должны начать с сердца человека — с его совести, а ценности совести могут проявиться только в бескорыстном служении человечеству.
Религия и наука идут рука об руку. Как я уже говорил, наука без религии хромает, а религия без науки слепа. Они взаимозависимы и имеют общую цель — поиск истины.
Поэтому для религии абсурдно запрещать Галилея или других ученых. И столь же абсурдно, когда ученые говорят, что Бога нет. У настоящего ученого есть вера, но это не значит, что он должен подписаться под каким-то вероучением.
Без религии нет милосердия. Душа, данная каждому из нас, движима тем же живым духом, который движет Вселенную.
Я не мистик. Попытка выяснить законы природы не имеет ничего общего с мистицизмом, хотя перед лицом творения я чувствую себя очень смиренным. Это как если бы дух проявлялся бесконечно выше человеческого духа. Благодаря моим научным занятиям я познал космические религиозные чувства. Но я не хочу, чтобы меня называли мистиком.
Я верю, что нам не нужно беспокоиться о том, что произойдет после этой жизни, пока мы выполняем свой долг здесь — любить и служить.
Я верю во Вселенную, потому что она рациональна. Закон лежит в основе каждого события. И я верю в свое предназначение здесь, на Земле. Я верю в свою интуицию, в язык своей совести, но я не верю в рассуждения о Рае и Аде. Меня волнует это время — здесь и сейчас.
Многие думают, что прогресс человечества основан на опыте эмпирического, критического характера, но я говорю, что истинное знание можно получить только через философию дедукции. Ибо именно интуиция улучшает мир, а не просто следование по протоптанному пути мысли.
Интуиция заставляет нас смотреть на несвязанные факты, а затем думать о них до тех пор, пока все они не могут быть сведены в один закон. Искать связанные факты — значит держаться за то, что есть, вместо того, чтобы искать новые факты.
Интуиция — отец новых знаний, в то время как эмпиризм — не что иное, как накопление старых знаний. Интуиция, а не интеллект-это «сезам откройся».
Действительно, не интеллект, а интуиция продвигает человечество вперед. Интуиция подсказывает человеку его предназначение в этой жизни.
Мне не нужно никаких обещаний вечности, чтобы быть счастливым. Моя вечность -сейчас. У меня есть только один интерес: выполнить свое предназначение здесь, где я нахожусь.
Эта цель не дана мне ни родителями, ни окружением. Это вызвано какими-то неизвестными факторами. Эти факторы делают меня частью вечности.
Источники текста: Эйнштейн и поэт: В поисках космического человека (1983).
Из серии встреч Уильяма Германна с Эйнштейном в 1930, 1943, 1948 и 1954 годах
Наш сайт без рекламы для Вашего удобства! Чтобы поддержать проект — поделитесь ссылкой с друзьями. Благодарим!
Источник